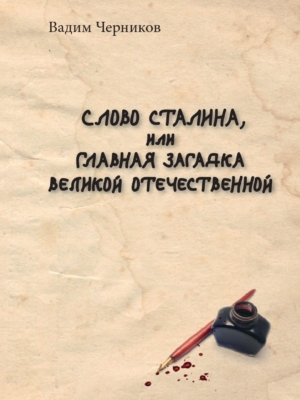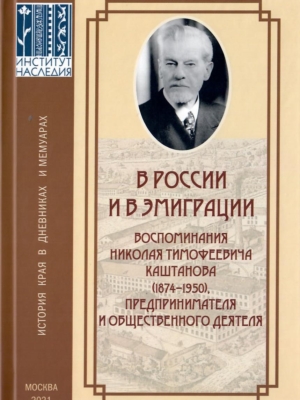Автор: Александр Гончаров
130 лет прошло со дня рождения одного из крупнейших русских писателей советского периода Константина Георгиевича Паустовского (1892-1968). И если вы хорошо знакомы с его творчеством, то у вас язык не повернется назвать его советским писателем. Да, ему пришлось жить в эпоху, когда само имя России было заменено на неуклюжее клише коммунистического толка – Советский Союз, а русский народ нагло переименовали советским.
Вот Максим Горький или Алексей Толстой и тем паче Владимир Маяковский – это советские литераторы, но только не Константин Паустовский. Горький и Маяковский приняли советский образ жизни с его фантастическими галлюцинациями и лицемерие как должное, Паустовский же только смирился. Нет, он не был диссидентом, вроде Синявского или Буковского, против советской власти Константин Георгиевич открыто не выступал: ему попросту не до того было. Паустовский писал и сохранял отблески той русской литературы, в лоне которой зародились и выросли Пушкин, Вяземский, Бунин и Розанов.
Константину Паустовскому принадлежат замечательные слова: «…Мы жили на этой земле. Не давайте ее в руки опустошителей, пошляков и невежд. Мы − потомки Пушкина, и с нас за это спросится».
Произведения Паустовского, даже связанные с советской тематикой, по сокровенной сути своей, не советские. Они русские и сотворенные на великолепном русском языке, ценимом и нежно любимым: «С русским языком можно творить чудеса. Нет ничего такого в окружающей нас жизни и в нашем сознании, чего нельзя было бы передать русским словом. И звучание музыки, и спектральный блеск красок, и шум, и тень садов, и сказочное – сновидения, и тяжелое громыхание грозы, и детский лепет, и заунывный ропот прибоя. И гнев, и великую радость, и скорбь утраты, и ликование победы.
Нет таких мыслей, понятий, звуков, красок и образов – и сложных и простых, – для которых не нашлось бы в нашем языке точного выражения…
Русский язык народен. Он является наилучшим выражением сущности русского человека. Из народных глубин, из подчас непрослеженных и неведомых истоков расцвел этот изумительный язык. И сколько бы мы его ни изучали, как бы мы ни определяли законы его образования, он всегда будет производить на нас впечатление радостного чуда».
Человек, отвращавшийся от русского языка, для Константина Георгиевича терял свою самость: «Истинная любовь к своей стране не мыслима без любви к своему языку. Человек, равнодушный к родному языку − дикарь. Он вредоносен по своей сути, потому что его безразличие к языку объясняется полнейшим безразличием к прошлому, настоящему и будущему своего народа».
Константин Паустовский признавал себя человеком русским до мозга костей, до глубин сердца и души, хотя для кондового националиста его кровное происхождение всегда останется ярким раздражителем. Польская, турецкая, русская, да Бог еще знает, какие крови текли в венах писателя. Но он твердо стоял на русской основе и утверждал: «Самая большая вина большевиков в том, что они уничтожили русский народ».
Паустовский отлично умел всматриваться и вслушиваться в действительность и свидетельствовал, что многие характерные русские типы исчезли с торжеством советской власти: настоящий рабочий – мастер своего дела, гордый своей профессией и своими умениями заместился мрачным полупьяным пролетарием, крестьянин-труженик порабощенным и затурканным крепостным колхозником, а интеллектуал Царской эпохи нелепым советским интеллигентом, штудирующего труды Карла Маркса в уборной коммунальной квартиры.
Февраль 1917 года Константин Паустовский в силу житейской неопытности сперва принял, а потом и оправдал под влиянием своей поздней ошибочной теории о стихийном возникновении революций. Но вот Октябрь он раскусил сразу. В случайно найденных дневниковых записях Константин Георгиевич четок в описании и беспощаден: «Третья революция, которая близка, будет самой кровавой. Будут убивать на улицах, как зверей. Ибо давление ненависти и тяжесть терпения перейдут предел и разразятся внезапным и ошеломляющим взрывом… Нет никаких надежд. У безнадежного один исход – расплата с теми, кто загнал его издыхать во вшивую нору.
Когда кончилась Гражданская война и началось «мирное строительство», все сразу увидели, что «король голый» и вся сила его – только в войне, в разрушительной энергии злобы, в ужасе. Чтобы создавать, нужна свободная душа, а не прокислый ум, изъеденный, как молью, партийной программой и трехлетним озлоблением. Они – искалеченные, но не огнем, а тлением, распадом, неудачливостью. Вся страна превращается в аракчеевские поселения.
Никто не проклянет тех, кто пошел «чесать пятки Луначарскому». Тех, кто мог бы проклясть… <неразборчиво>… и завистливо смотрят, как «те» тащат два фунта ячной крупы с мышиным пометом – академический паек.
Началась новая эпоха – прикармливание интеллигенции, профессоров, художников, литераторов. На горьком хлебе, напитанном кровью, они создадут какой-то нудный лепет – «великое искусство пролетариата, классовой ненависти». Чека им крикнуло «пиль», и они покорно пошли, поджав облезлый от голода хвост. Голгофа. Предсмертная пена на губах искусства. Кто из них потом повесится, как Иуда на высохшей осине? Кто однажды продал душу? Господи, да минет меня чаша сия».
Слова Паустовского уж очень схожи с тем, что писал один из его любимейших писателей – Иван Бунин.
У Паустовского звенит бунинский ритм: «Расстрел, «размен», «ставка Духонина» совершается над каждым из нас 24 часа в сутки, непрерывно. А смерть – это только «последняя» стенка, цементная стена гаража и грохот автомобильного мотора (их заводят, чтобы не было слышно выстрелов), после которого останутся только клочья воспаленных мозгов и лужица крови… Такого глухого чугунного времени еще не знала Россия… Ухмыляющейся зев великого хама».
Паустовский чуть более полувека прожил при «чугунном» советском строе и отчасти повторил путь последнего великого русского философа Алексея Лосева, хоть репрессирован и не был. Надо было упомянуть Ленина, пожалуйста, кушайте вашего Ильича, лишь не подавитесь сгоряча. Надо было писать о «стройках коммунизма», − пусть будут. Но все это являлось внешним, наносным, а стержень-то лежал в иной плоскости – в Имперской, Русской.
Константин Георгиевич любил Среднюю Россию, Украину, Москву, но видел их в единстве. Не случайно он так беспощаден в обличении самостийной «петлюровщины» с ее варварским украинством: «У каждого народа есть свои особенности, свои достойные черты. Но люди, захлебывающиеся слюной от умиления перед своим народом и лишенные чувства меры, всегда доводят эти национальные черты до смехотворных размеров, до патоки, до отвращения. Поэтому нет злейших врагов у своего народа, чем квасные патриоты.
Петлюра пытался возродить слащавую Украину…
Власть украинской Директории и Петлюры выглядела провинциально.
Некогда блестящий Киев превратился в увеличенную Шполу или Миргород с их казенными присутствиями и заседавшими в них Довгочхунами.
Все в городе было устроено под старосветскую Украину, вплоть до ларька с пряниками под вывеской «Оце Тарас с Полтавщины». Длинноусый Тарас был так важен и на нем топорщилась и пылала яркой вышивкой такая белоснежная рубаха, что не каждый отваживался покупать у этого оперного персонажа жамки и мед…»
Совсем другое отношение Паустовский выразил к Москве: «Сквозь пожары и революции, великие войны и колокольный звон, бунты и покаяния, сквозь море народных движений, приниженность и скуку − она пройдёт, как монолит, и сохранит свой облик − во сто крат более прекрасный. На перевале веков, культур он станет особенно чёток − этот облик Москвы, вечного города, которому будет молиться вся Россия, всё человечеств».
Почему же такое отличие наблюдается у писателя? Да, по одной простой причине – он носил в себе неистребленный Имперский дух, соединенный с Православием. Паустовский органически не мог превратиться в местечкового националиста – «Тараса с Полтавщины» или в «безродного космополита», или в советского «певца мировой революции».
«Струны сердца» Константина Паустовского оказались настроены на совсем иные мелодии, в которые не закралось никакой, даже и малейшей, фальшивой ноты. И поэтому он прибудет с нами, с Россией, с русским народом, до тех пор, пока мы будем ходить по этой грешной земле, живя и мысля по-русски.