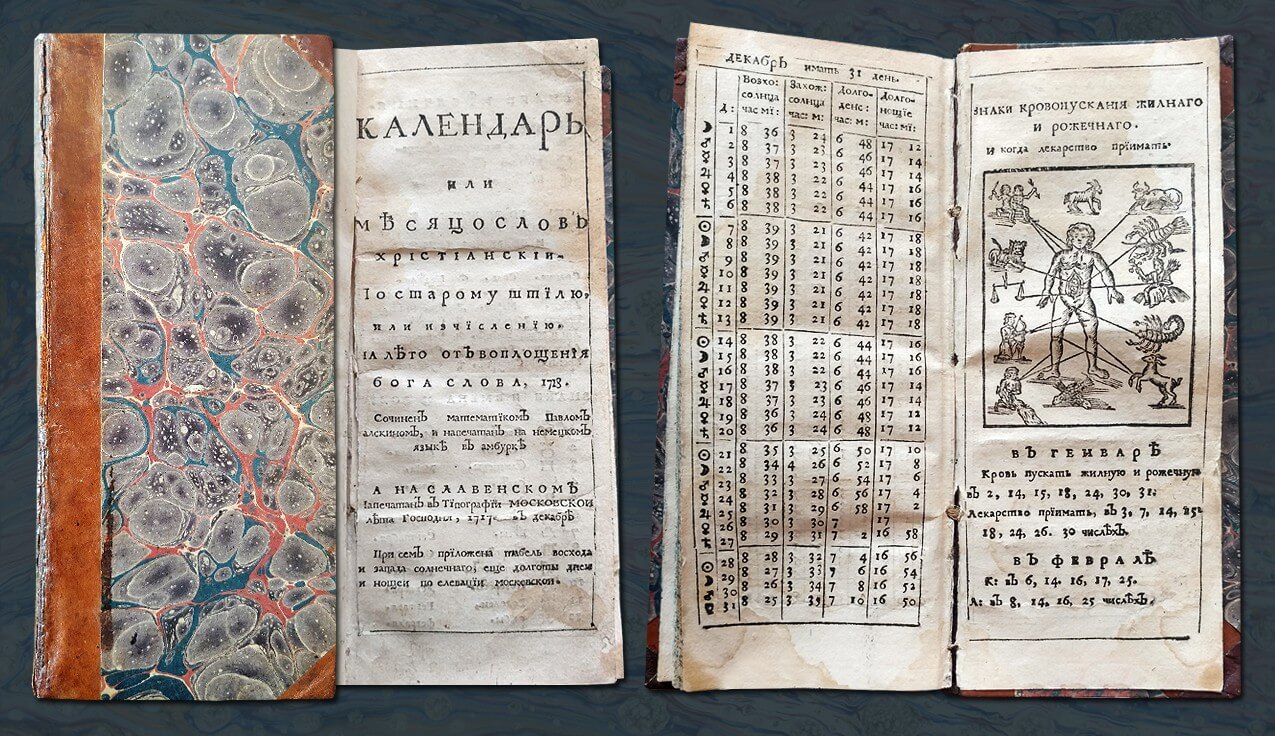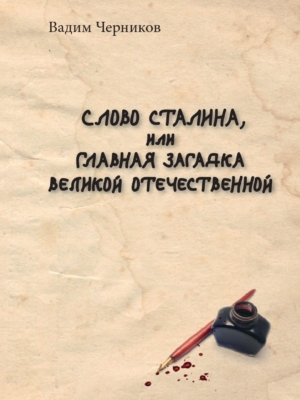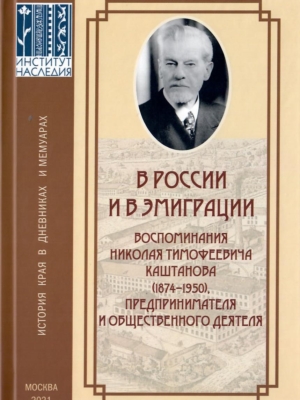Автор: Елизавета Преображенская
«…в то время опасно даже было сказать: «Я русский», значит, Родина была несвободной».
Михаил Михайлович Пришвин – писатель, чудесные зарисовки о природе которого знакомы всем нам с детства. Он один из немногих русских писателей, который не запачкал себя подхалимажем перед советскими властями и не писал, выполняя идеологические заказы партии. Природа, животные, фотография – вот темы его творчества. Но мало кто знает, что практически всю жизнь писатель вел дневник, который содержал массу острых замечаний о происходящем в стране. Такие записи, если бы их нашли те, «кому следует», могли стоить Михаилу Михайловичу свободы, а, возможно, и жизни. Ведь даже за менее хлесткую критику многие его современники и их семьи в одночасье превращались в узников или даже приговоренных.
Нужно сказать, что, хотя Михаил Михайлович и происходил из купеческой семьи, хотя его отец и был помещиком, назвать его сторонником монархии было нельзя. Он бунтовал с детства, еще будучи гимназистом, а революцию 1917 года горячо приветствовал. Но вскоре наступило осознание того, какой на самом деле трагедией была эта революция и как она подкосила Россию. «Русский народ погубил цвет свой, бросил крест свой и присягнул князю тьмы Аваддону» — истина, которую Пришвин знал уже в декабре 1917 года, а иные наши соотечественники не уяснят и до сих пор, продолжая с бараньим упорством вести отсчет истории России с 1917 года, дескать, до этого держава была «отсталая, лапотная, темная». Да нет, отсталой, темной и лапотной Россия стала именно из-за и после 1917 года.
Он видел, как страну захлестнула Гражданская война, как сбрасывали и разбивали старинные колокола, крушили храмы, видел, как арестовывают лучших из лучших, как без суда и следствия пропадают люди, и обо всем этом писал в дневнике с поразительной откровенностью, на которую отважился бы редкий человек.
Михаил Михайлович уже в 1919 году признает, что нет правды за теми, кто вершил революцию и что все виноваты в этой трагедии. «Это наше, наше правительство! Мы все в нем виноваты… Мы все виноваты в правительстве, и наше оно все и во всем; назовите мне теперь хоть одного вдумчивого человека, кто не нашел бы своей вины в нашем правительстве? Разве те, кто на той стороне?» На той стороне – это значит в Белой армии. Гражданская война в самом разгаре, хотя во всем мире давно наступил мир, и все понемногу приходят в себя после Первой мировой войны. Все, но только не Россия, выброшенная из числа победителей позорным большевистским Брестским миром и сотрясаемая чудовищной Гражданской войной…
Пришвин ассоциирует происходящее с темной фотографической комнатой, в которую не пропускают ни один солнечный луч извне, а вместо этого освещают всё тусклой красной лампой. Дорого же нам стоила эта лампа, красная от русской крови.
Осознание свершившейся катастрофы подкреплялось советским бытом – голодом, нищетой, беспомощностью. «Многие вещи против прежнего нынче совершенно никуда не годятся, и кто вырос теперь, не зная того старого, тому уже, значит, эта утрата совершенная, даже воображение не может нарисовать милый образ: взять хотя бы для примеру замечательные прежние наши московские филипповские калачи — ну что это за роскошь, бывало, утром к чаю принесут горячий калач, полный и упругий и мягкий, как грудь нежнейшей, чистой молодой девушки. Аромат первейшей крупчатки так наполнит комнату, что вы, закрывши глаза, скажете: «Тут где-то пахнет филипповским калачом!» Моя матушка любила по приезде своем в Москву первым делом купить калачей, коробку зернистой икры, немного луку и свежих огурцов. Намазав на половинку калача зернистую икру, она посыпала ее мелко нарезанным зеленым луком, закрывала это другой половинкой и ела, прикусывая, охлаждая икру с луком холодными сочными огурцами».
Эти Филипповские калачи и прочие вполне обыденные в прежней России продукты казались после революции чем-то недостижимым, ведь при большевиках русская кухня трансформировалась в хлеб из лебеды и вонючую похлебку из воблы.
В своем дневнике писатель часто обращается мыслями к старой России. Она всегда в его мыслях овеяна светом и добротой: «Мне помнится теперь-то забываемое царское время, когда многие жили с открытыми сердцами, и в Светлое Христово Воскресение, бывало, в Москве, если хорошо поглядеть на незнакомого человека, да еще если он немного выпивши, то он возьмет, обнимет тебя и похристосуется. А то раз, помню, в марте в Москве на какой-то улице увидал свежие зеленые огурцы и начал их торговать.
– А сколько, – спрашивает, – вам надо? – Мне, – говорю, – много надо, десяточка два.
– Нечего делать, – говорит, и завертывает два десятка и денег не берет, потому что, оказывается, я первый покупатель и для почину продать надо бесплатно. А то, помню, на Тверской вот дует кто-то меня в спину кулаком, оглядываюсь, незнакомая старуха ругается: – Ай, ты, глухой, кричу и не слышит, скажи, родной… Так жили мы тогда с открытыми сердцами, и что из этого вышло?»
Но голод и нищета оказались не самыми жуткими признаками большевистской власти, гораздо страшнее были нескончаемые аресты и расстрелы. Целая череда сломанных судеб проходит перед глазами Михаила Михайловича: Трубецкие, Голицыны, Олсуфьевы, Шереметевы, Лопухины. Цвет русской нации травили словно загнанных зверей. Почти все представители этих династий, оставшиеся в России после революции, были расстреляны либо подверглись репрессиям. Уже в конце 1940-х гг. Михаил Михайлович вспоминал князя Владимира Трубецкого, некогда блестящего кирасира, а после революции – человека, утратившего все блага и привилегии, но не оптимизм. Владимир Сергеевич был расстрелян в страшном 1937 году вместе с дочерями Варварой и Александрой. Его супруга Елизавета (Эли) Трубецкая погибла в тюрьме в 1943 году. И вот, пережив их всех Михаил Михайлович сокрушается: «Смотрел на березку, вспомнил кн. Трубецкого, что он их тоже любил, как и я, и это одно нас соединяло, и это «одно» есть чувство Родины. Так он и не сумел уберечь себя до наших дней… когда Родина стала свободной для князей. А в то время опасно даже было сказать: «Я русский», значит, Родина была несвободной».
Видя крушение судеб, деградацию страны и общества писатель часто задается вопросом «Что делать?», но ответа на него не находит: «Жить до смерти в полунищите среди нищих, озлобленно воспитанных на идее классовой борьбы, или отдаться в плен чужих людей, которые с иностранной точки зрения взвесят твою жизнь и установят ее небольшую международную значимость».
С 1926 по 1937 год Михаил Михайлович жил в Сергиевом Посаде. Он не только сокрушался из-за злодеяний советской власти над монастырями и храмами, над судьбой оскверненной Лавры, но и запечатлел скорбные страницы нашей истории на фотопленке. Зимой 1929—1930 годов писатель сделал серию фотоснимков, которую подписал своей рукой как «Когда били колокола». Писал он об этом и в своем дневнике:
«В Лавре снимают колокола, и тот, в 4000 пудов, единственный в мире, тоже пойдёт в переплавку. Чистое злодейство…»
«Вчера сброшены языки с «Годунова» и «Карнаухого». «Карнаухий» на домкратах. В пятницу он будет брошен на «Царя» с целью разбить его. Говорят, старый звонарь пришёл сюда, приложился к колоколу, простился с ним: «Прощай, мой друг!»
«А это верно, что «Царь», «Годунов» и «Карнаухий» висели рядом и были разбиты падением одного на другой. Так и русское государство было разбито раздором. Некоторые утешают себя тем, что сложится лучше. Это всё равно, что говорить о старинном колоколе, отлитом Годуновым, что из расплавленных кусков его бронзы будут отлиты машины и красивые статуи Ленина и Сталина…»
«3 февраля. Трагедия с колоколом потому трагедия, что все очень близко к самому человеку… Страшна в этом некая принципиальность – как равнодушие к форме личного бытия служила медь колоколом, а теперь потребовалось, и будет подшипником. И самое страшное, когда переведёшь на себя: ты, скажут, писатель Пришвин, сказками занимаешься, приказываем тебе писать о колхозах…»
Бог уберёг. О колхозах писать не пришлось, хотя доносы на него писались и творчество громогласно критиковалось. Михаилу Михайловичу вменяли «уход от классовой борьбы», «оправдание старины», «борьбу против советской культуры». Даже интересно, что же это за культура такая, советская, в которой творчество Пришвина было «борьбой с культурой»?
Михаил Михайлович всегда был певцом русской природы, дневник же его показывает, что он был еще и тонко чувствующим происходящее мыслителем, человеком проницательным и мудрым. Он не мог говорить открыто о том, что мучило его душу, да это и не помогло бы. «За каждую строчку моего дневника – десять лет расстрела» – писал Михаил Михайлович и был совершенно прав. Выскажи он вслух хоть оду из мыслей – это была бы верная смерть, но вот он доверил все бумаге и сквозь годы советского мрака донес до нас подлинный снимок той страшной эпохи, в которой ему довелось жить.
Свой дневник он начал в 1905 году (год первой революции, такой, от которой страну еще удалось уберечь), а последнюю запись сделал 15 января 1954 года, всего за несколько часов до смерти: «Мир существует таким, каким видели его детьми и влюблёнными. Всё остальное делают болезни и бедность».
Дневники писателя публикуются, их можно и даже нужно читать, чтобы ни на секунду не забывать, какую чудовищную трагедию принесла в Россию революция.