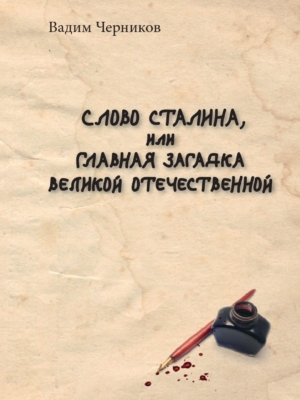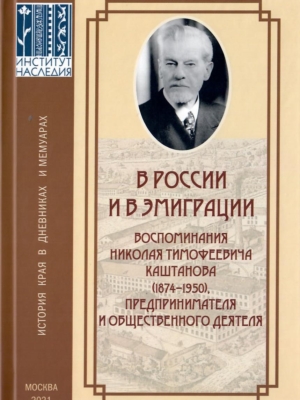Автор: Аркадий Минаков
Слово галломания ныне известно преимущественно узким специалистам. Между тем, в конце XVIII – первой трети XIX веке каждому образованному русскому было ясно, о чём идёт речь. Галломания – (галлы – французы, мания – влечение, страсть) была чрезвычайно широко распространена в Российской Империи. Это была не просто некая тяга к французскому языку и культуре. Франция тогда абсолютно доминировала в Европе и представлялась своего рода «квинтэссенцией» Запада в сознании тогдашних русских западников. Французские языковые, культурные и идеологические модели рассматривались влиятельной частью тогдашней российской элиты как образец для подражания, как то, что необходимо во что бы то ни стало пересадить на русскую почву: от языка и моды, до политической идеологии и государственного устройства. При этом российские галломаны, как правило, не осознавали, что основная угроза Российской империи исходила именно от Наполеоновской Франции, стремящейся к господству в Европе и агрессивно распространявшей своего рода модифицированный «глобальный проект», возникший в результате Великой французской революции.
Иначе говоря, это была одна из исторических форм русского западничества, выросшего на почве “чужебесия”, охватившего часть русских верхов в XVII веке. «Чужебесие – это бешеная любовь к чужим вещам и народам, чрезмерное, бешенное доверие к чужеземцам. Эта смертоносная чума (или поветрие) заразила весь наш народ … чужебесие многих наших правителей свело с ума и одурачило». Так писал во второй половине XVII в. в сторонник славянского единства (кстати, выступавший за присоединение Малороссии к Московской Руси) Юрий Крижанич. Уже тогда чужебесие приводило к тому, что иностранные интересы, обычаи, идеологии, культура оказывались для славян, в том числе и русских, более приоритетными, чем свои собственные.
Ситуация усугубилась с царствования Петра I. Его «страсть к иноземным диковинам» обернулась не только заимствованием бесспорно необходимых для России новаций (европейской науки, флота, армейской организации и т.д.), но и резким усилением роли иностранцев при русском дворе, утратой трезвого понимания национальных интересов России во внешней политике, которая оказалась на длительное время в значительной мере подчиненной интересам иностранных государств, беспрецедентным по масштабу закрепощением крестьянства, сломом религиозных и культурных традиций, а главное созданием влиятельного слоя образованных людей, считающих своей главной целью пересадку на русскую культурно-историческую почву европейской цивилизационной модели.
Галломания зародилась в царствование Императрицы Елизаветы и особенно усилилась в результате наплыва французских эмигрантов при Екатерине II и Павле I, которые часто становились воспитателями русских дворянских юношей: историки и филологи второй половины XIX-начала XX века утверждали, что этот «неразумный обычай» объяснялся историческими обстоятельствами, среди которых они называли необразованность дворянства, пристрастие к французскому языку высшего общества и отсутствие собственных педагогических учреждений, в которых бы готовились русские преподаватели и воспитатели. Примеру высшего обшества последовало «сначала зажиточное дворянство, а за ним потянулась «мелкая сошка», желавшая жить как знатные господа».
При этом они подчеркивали особую роль частных пансионов, создаваемых иностранцами, поскольку в них французское влияние проявлялось «еще более интенсивно», чем в государственных учреждениях. В пансионах добивались только настоящего французского выговора. Результат был печален: «Сатире и комедии легко было собирать обильную поживу с галломании. Сколько встречалось таких господ, и молодых и не молодых, которые не умели похристосоваться на родном языке! Существовали даже градоначальники, затруднявшиеся в объяснениях с подчиненными, которые не говорили по-французски».
Ближайшим последствием галломании стало плохое знание русского языка дворянами: «высшее общество, воспитанное на иностранной выдержке, говорило по-русски более самоучкою и знало его понаслышке; красоту и силу природного языка изучали у псарей, лакеев, кучеров, и надо отдать справедливость, что изученное таким путем красноречие знали в совершенстве». Галломания вела к распаду семейных связей и традиций: иностранные гувернеры и гувернантки делались «повелителями в семействе и тиранами детей, которые не смели жаловаться на дурное с ними обращение, не проговориться о пороках и дурном поведении своих наставников и наставниц. С другой стороны, воспитатели прикрывали пороки своих воспитанников, а очарованные родители только и твердили детям, что они во всем должны брать пример с французского экземпляра, и что все, чему он их научит, хорошо и сущая истина. Таким образом, сложив с себя добровольно родительскую власть и отрекшись от воспитания своих детей, отцы и матери отдали их на произвол пришельцев, которые не стыдясь печатали в газетах объявления, что будут учить нас любви к отечеству, приверженности к вере и государю. Вместо этого они поселяли в семье полнейший разлад: внушали детям неуважение к родителям и, если не презрение, то полное равнодушие ко всему русскому и сочувствие ко всему иностранному».
Одним из последствий иностранного воспитания стало нравственное разложение русской дворянской молодежи. «Беглые и наглые француженки … открыли в этих вертепах постыдный торг честью русских женщин и русских девушек. Сколько сгубили тогда детей: в десять-двенадцать лет мальчики пили мертвую чашу и знали все проделки разврата». В итоге в русской жизни появились доселе неслыханные новшества: «тайные развратные общества: в Москве – клуб адамистов, а в Петербурге – общество свиней». Подобная точка зрения подтверждается высказываниями современников: «Как пчелы налетают на дерево и облепляют все его ветви, так эмигранты набежали в Россию, набежали, нанесли и водворили у нас тысячи дотоле незнаемых нами предрассудков, разврата, бездельничества – словом, всего, что было скверного, гнусного и преступного во Франции».
В консервативном дискурсе воспитание, осуществляемое иностранцами, не без оснований воспринималось как орудие европейской политики для достижения «коварных, анти-русских целей». Галломании представлялась консервативно настроенным современникам тем идейным злом, в котором оказались как бы сфокусированы все угрозы, которые несла с собой Французская революция и наполеоновская агрессия. Более того, французское влияние порой рассматривалось ими как источник буквально всех бед России. К примеру, в письме к Императору Александру I, датированном 1804 г., М.И. Антоновский утверждал: «Растление честнейших нравов, повреждение добрейших обычаев, развращение верховного начальства, ужаснейшая дороговизна в России, в сем обильнейшем во всех естественных произведениях самостоятельном государстве суть отпрыски скрытнейшего оных франков коварства, козней, крамол, устремленных от них к явному падению величества России, а с тем и к покорению ее игу своему, подобно недавно случившимся и продолжающимся в Европе от сих, по изречению великого Суворова, ветреных, сумасбродных, безбожных французишков».
Огромное воздействие на складывание русского консерватизма оказали события 1805 – 1807 гг., когда, став участником антинаполеоновских коалиций, Россия потерпела ряд военных поражений и вынуждена была заключить в 1807 г. Тильзитский мир, воспринимавшийся современниками как крайне позорный. В обществе возникло исключительное по интенсивности национально-патриотическое настроение. Процитируем друга Пушкина, поэта П.А. Вяземского, которого трудно упрекнуть в обскурантизме и ксенофобии: «Дух чужеземства мог быть тогда в самом деле опасен. Нужно было противодействовать ему всеми силами и средствами. В таких обстоятельствах даже излишества и крайность убеждений были у места. Укорительные слова: галломания, французолюбцы, бывшие тогда в употреблении, имели полное значение. Ими стреляли не на воздух, а в прямую цель. Надлежало драться не только на полях битвы, но и воевать против нравов, предубеждений, малодушных привычек. Европа онаполеонилась. России, прижатой к своим степям предлежал вопрос: быть или не быть, то есть следовать за общим потоком и поглотиться в нем, или упорствовать до смерти или до победы?» Галломания постепенно начала становиться явлением неприемлемым не только для консерваторов, но и значительной части образованных людей того времени.
В ходе борьбы с галломанией постепенно возникла первоначальная программа русских консерваторов, сформулированная преимущественно Н.М. Карамзиным, А.С. Шишковым, Ф.В. Ростопчиным, С.Н. Глинкой. Они воспринимали либеральные проекты начала царствования Александра I как проявление все того же французского влияния, как пересаживание на русскую почву принципов Французской революции.
В своих воспоминаниях Шишков противопоставлял молодых реформаторов, окружавших императора, екатерининским вельможам, которые «должны были умолкнуть и уступить новому образу мыслей, новым понятиям, возникшим из хаоса чудовищной французской революции. Молодые наперсники Александровы, напыщенные самолюбием, не имея ни опытности, ни познаний, стали все прежние в России постановления, законы и обряды порицать, называть устарелыми и невежественными. Имена вольности и равенства, приемлемые в превратном и уродливом смысле, начали твориться пред младым царем».
Одна из причин, по которой ряд консерваторов приняли самое активное участие в устранении с политической арены либерального реформатора М.М. Сперанского, разрабатывающего конституционные реформы, заключалась в том, что он воспринимался ими как своего рода «агент влияния», центральная фигура ненавистной им либеральной «французской партии». Историк Н.К. Шильдер следующим образом описывает то, как восприняла консервативная часть русского общества опалу Сперанского в марте 1812 г. : ее «торжествовали как первую победу над французами. Таким образом, предначертанная цель была вполне достигнута и сопровождалась замечательным успехом; дух патриотизма и приверженности к правительству был пробужден и укреплен во всех сословиях, подготовляя ведение национальной войны, в которой видели спасение России».
Таким образом, консерваторы заблокировали реализацию масштабного конституционного либерального проекта, который на том этапе должен был реально ограничить самодержавие. И, как небезосновательно опасались консерваторы, одновременно существенно ослабить мощь России перед большой войной.
С началом войны с Наполеоном антифранцузские настроения достигли своего апогея: «Высшие классы нашего общества внезапно переродились; из французов и космополитов они вдруг превратились в русских. Дамы и светские кавалеры вдруг отказались от французского языка. Они начали говорить по-русски и с удивлением замечали, что говорить на родном языке для них легче и что русский язык совершенно удобен для употребления в гостиных. Французская мода также подверглась всеобщему гонению. Многие дамы поспешили нарядиться в сарафаны, кокошники и повязки; мужчины начали носить серые ополченские кафтаны. В Петербурге никто не хотел более слышать французских актеров; толпа встречала их неистовым свистом, криком, ругательствами и гнала их со сцены. Правительство поспешило закрыть французский театр».
Во многом благодаря усилиям консерваторов высший образованный слой вновь начал говорить на русском, а не французском языке. В полемике с галломанами русские консерваторы формулировали некоторые основные постулаты нарождавшегося русского консерватизма: недопустимость некритического подражательства западноевропейским образцам, ставка на собственные самобытные традиции: языковые, религиозные, политические, культурные; опора на патриотизм, включающий культивирование национального чувства и преданность традициям мощной государственности — самодержавной монархии. Показательна их предметная любовь к русской культурной традиции и русской истории, стремление сделать их опорой для консервативного мировоззрения, все они готовили «почву» для грядущего «золотого века» русской культуры.
Любопытно отметить, что, в условиях борьбы против наполеоновской Франции, некоторые западноевропейские консерваторы готовы были признать желательность, конструктивность и реалистичность некоторых существенных элементов программы русских консерваторов. В частности, барон Генрих-Фридрих-Карл фон Штейн писал в 1812 г., что, заимствуя в Европе «общеполезные знания и учреждения», Россия «должна была сохранить в то же время свои первоначальные нравы, образ жизни, одежду; она не должна была подкапывать и портить свою самобытность, изменяя все это. Ей не нужно было ни французской кухни, ни французской одежды, ни иностранного типа; она могла исключить из собственного все грубое, не отказываясь от всех его особенностей. Положение столицы России (т.е. Петербурга), пример правителей, естественная склонность нации к подражанию, способствовали усилению пристрастия к иностранным обычаям. И кого же избрали себе за образец русские? Самую изнеженную и испорченную нацию из всех европейских – французскую. Язык французов, их литература, их способ воспитания сделались господствующими в высших классах и имели самые гибельные последствия для нравственности и народного образования. Не пора ли …в виду этого последнего обстоятельства положить предел дальнейшему вторжению иностранного элемента, не следовало ли бы возвратиться к столь целесообразной и удобной национальной одежде, не следовало ли бы императорскому двору перенестись в Москву».
Таким образом, первоначальный вариант русского консерватизма явился непосредственной и очень острой реакцией на чужебесие и галломанию наиболее активной и влиятельной части правящего слоя и культурной элиты. Борьба с западничеством в начале XIX века стимулировало развитие русской национально-консервативной мысли. Как, впрочем, происходит и в наши дни.