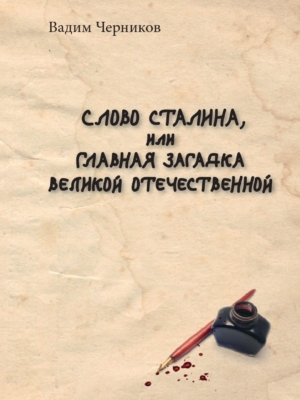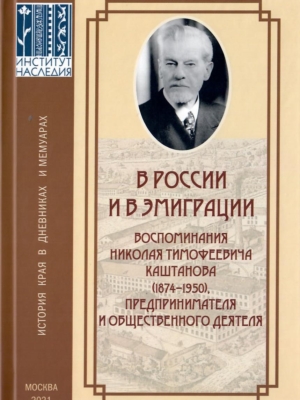Автор: Михаил Смолин
Многое из того, с чем сегодня приходится спорить правым консерваторам, идеологически было прописано ещё в 20-30-е годы Николаем Устряловым (1890–1937), бывшим кадетом, бывшим начальником пресс-бюро правительства Колчака, ставшим в эмиграции большим советофилом.
Именно ему мы обязаны оформлением своеобразного ницшеанско-макиавелиевского сменовеховства. По-интеллигентски вычурного красного патриотизма, стремившегося не только примириться, но и послужить новым хозяевам страны. Долгие годы, находясь в эмигрантских реалиях, Устрялов неустанно пропагандировал сотрудничество с большевицким режимом. Главным догматом его политической веры стало убеждение в том, что коммунистическая партия со временем «обязательно» эволюционирует в некую национальную силу.
Был ли сам Устрялов искренне убеждён в том, о чём писал? Была ли его «примиренческая» позиция некой психологической травмой вследствие поражения белых? Или он просто являлся для большевиков полезным интеллигентским идиотом, которого всячески материально и информационно поддерживали?
Получить безусловные ответы на эти вопросы было бы интересно. Хотя всё вышеперечисленное и так могло легко сочетаться в непростой фигуре харбинского сменовеховца. А посему решение этих вопросов интересно лишь для прояснения личной мотивации идеолога национал-большевизма… Сегодня же значительно важнее поговорить о самой идеологии, им прописанной и давшей идейную пищу для советских шовинистов.
Сменовеховство и национал-большевизм
Ещё не закончилась борьба Врангеля на юге России, ещё далеко не завершилась Гражданская война на Дальнем Востоке, а недавно бывший белым пропагандистом Устрялов, уже с февраля 1920 года, начинает свою проповедь примиренчества с большевиками, поселившись в Харбине.
Следуя по-своему понятой гегелевской диалектике перехода тезиса в антитезис «в своем поражении, — как пишет исследователь национал-большевизма Агурский, — Устрялов увидел победу. В большевизме, внешне отрицавшем все национально-русское, он ощутил невиданное торжество русской национальной идеи».
В аморальном большевистском этатизме харбинский мечтатель узрел для себя «продолжение» русской государственности.
Именно с этого момента он начинает высматривать свой национальный «большевизм», совершенно не схожий с реальным партийным коммунизмом Ленина, Троцкого, Сталина, Зиновьева, Бухарина и многих других. В своём внезапном «прозрении» Устрялов и тогда, и сейчас был не одинок. После Гражданской войны «национал-большевистские миражи» наблюдало немало эмигрантов из вечно мечтающей интеллигенции. Различные варианты своих большевистских видений описывали всевозможные евразийцы, скифолюбы, бывший обер-прокурор временного правительства Львов, писатель Алексей Толстой и немало других национал-мечтаносцев.
При всей своей нетерпимости к инакомыслию большевики вполне охотно разрешали свободное распространение сменовеховских изданий в советской стране и поддерживали их в эмиграции. Часто советские спецслужбы сами инспирировали подобные движения, среди которых было и внецерковное обновленчество (церковный национал-большевизм) и прочие чекистские провокации. Так, при коммунистах в России открыто издавался сменовеховский журнал «Новая Россия» (1922–1926) под редакцией Лежнёва (Альтшуллер) (1891–1955) с его «революционным консерватизмом». Затем по личной рекомендации Сталина Лежнёв вступил в компартию, работал в газете «Правда» и в Совинформбюро…
Сменовеховство и большевизм
Апология беспринципности, аморальный этатизм, смена убеждений в эмиграции соединились с поисками возможной эксплуатации национальной риторики руководителями партии внутри СССР. Бессовестная политическая культура большевистской партии всегда легко, из тактических соображений момента, занималась использованием национальных лозунгов. Когда надо было мобилизовать русских офицеров на борьбу с Польшей, Троцкий мог заставить себя говорить о «защите Святой Руси». В свою очередь, Сталин, мобилизуя население на борьбу с немцами, не без усилий, но тактически переходил на примерно ту же самую риторику…
В своей речи на XXIV ленинградской губпартконференции в 1927 году Бухарин признавался: «Мы старались сменовеховцев использовать, ими руководить, их вести за собой…»
Партийные интернационалисты время от времени были вынуждены в своих интересах пользоваться патриотической, националистической риторикой. Отсюда и терпимо-покровительственное отношение большевиков к сменовеховцам.
В отношении Устрялова Сталин прямо говорил: «Пусть мечтает о перерождении нашей партии. Мечтать у нас не запрещено. Пусть себе мечтает на здоровье. Но пусть он знает, что, мечтая о перерождении, он должен вместе с тем возить воду на нашу большевистскую мельницу. Иначе ему плохо будет».
Мечтать Устрялов не прекращал всю свою жизнь, воду на большевистскую мельницу возил регулярно, но несмотря на все эти старания большевики всё равно его расстреляли…
Идеология примиренчества
По-видимому, Устрялов, всё же искренне верил в некое грядущее перерождение большевизма. Приветствуя НЭП, он, с одной стороны, понимал, что «не подлежит, в самом деле, ни малейшему сомнению, что вожди русского коммунизма, начиная с Ленина, не могут перестать и не перестанут быть принципиальными коммунистами» (Перерождение большевизма, 1921). С другой стороны, он неизменно приветствовал жестокую власть большевиков в стране. Устрялов пытался объяснить свои симпатии старым интеллигентским различением Отечества и власти (Наша генеалогия, 1921). Мол, одно дело — партия, а другое дело — большевистская Россия.
Признавая настоящей революцией лишь Октябрь, он считал, что «старую мощь России» могут восстановить только силы, рождённые самой революцией (Редиска, 1921). Харбинскому мечтателю грезилось, что, эволюционируя, большевизм должен «ликвидировать хозяйственно не оправдавший себя «базис» насильственного, «азиатского коммунизма»» (Национал-большевизм, 1921). По окончании НЭПа Устрялов многократно призывал партию к неоНЭПу и к ставке на крестьянство.
Эти наивные надежды естественно не оправдались. Партия пошла на повтор «азиатского коммунизма» со всеми сталинскими прелестями коллективизации, массового голода и новых репрессий.
Удивительным образом Устрялов обходил своим вниманием принципиальный интернационализм и даже антируссизм большевиков. Формальное сохранение сильной власти при коммунистических экспериментах он продолжал воспринимать как национально-русскую черту. Но была ещё марксистская идеология и именно она не позволяла коммунистической власти отказаться от революционного духа.
Понимая, что «конечные цели большевиков внутренне чужды идеям государственного и национального могущества», Устрялов продолжал настаивать, что только с ними и надо сотрудничать ради будущего России.
В Устрялове и в его национал-большевизме удивляет последовательное игнорирование всяческой нравственной оценки революции и большевиков как власти, пришедшей в результате государственного переворота. Призыв сменовеховского мечтателя примириться с революцией, как со стихией, которая была «неизбежна», но в которой разрушительные тенденции «должны» со временем ослабевать. Но в такой аналогии возникает вопрос — а природная стихия может ли быть созидательна, может ли эволюционировать от разрушителя в строителя?
Устрялов крайне отрицательно относился к дореволюционной монархии. Его лично очень беспокоило поправение русской эмиграции. На этом основании он долго отрицал проблему своего личного «возвращения в СССР», считая, что призван «на пользу родины» разлагать «эмигрантщину» и воспитывать «в интеллигенции новое патриотическое сознание». Своим «патриотическим» долгом он считал «доконать» всех непримирившихся эмигрантов и лишь тогда уехать в СССР (Проблема возвращения, 1921).
В его пропагандистских статьях встречается множество смысловых повторов. Он без устали твердил одно и то же: об эволюции большевизма и призывал с ним сотрудничать. Устрялов всячески силился доказать, что эволюция большевизма при НЭПе происходит уже вне большевистской тактики, что вернуться к практике военного коммунизма уже невозможно. Устрялов абсолютизировал успех большевиков, как легитимирующий их власть и «неизбежно» заставляющий идти к ним на службу. Мол, есть достижимые цели революции и есть большевистские крайности, от которых власть сама откажется. А потому нужна «встреча» небольшевистской интеллигенции, слияние «спецов» с советской властью.
Произошла ли эта «встреча»? Для некоторых произошла. Произошло ли «слияние»? Для большинства вернувшихся в СССР, конечно, нет. Шедшие на встречу эмигранты сменовеховцы были просто расстреляны.
Если внимательно читать тексты Устрялова, то складывается устойчивое убеждение, что в реальности сам он был скорее национал-демократом, чем национал-большевиком. Его сменовеховство внутренне надеялось, что большевики доэволюционируют до некого подобия «патриотических» кадетов.
Говоря о примирении русской интеллигенции с большевиками, Устрялов как-то упустил другую сторону этого процесса. Большевики хоть и испытывали постоянные трудности с реализацией своих утопий, всё же от них не отказывались и после очередного тактического поворота наподобие НЭПа возвращались к классовому подходу, коммунистическому террору и марксистским социальным экспериментам (трудармии, колхозы, гулаги и т.д.)
Со стороны сменовеховцев процесс, возможно, и выглядел как «примирение», а вот большевики воспринимали сменовеховцев значительно более прагматически, как попутчиков, как «спецов», надобность в которых когда уходит — их репрессируют.
Большинство основных сменовеховцев одинаково плохо кончили: С.С. Лукьянов с 1937 года в лагере и затем расстрелян (1938); Ю.В. Ключников был в ссылке с 1934, в 1937 арестован и в 1938 расстрелян; А.В. Бобрищев-Пушкин попал под репрессии вместе с сыном (расстрелян в 1934), ещё в так называемый «Кировский поток» (в 1935 году из Ленинграда и Ленинградской области было выселено около 40 тысяч человек и более 24 тысяч репрессировано «за убийство Кирова»), в 1935 году был сослан в Соловецкий лагерь и в 1937 расстрелян; Ю.Н. Потехин расстрелян в 1937 и, наконец, Н.В. Устрялов получил «благодарственную пулю» от своих хозяев также в 1937 году.
Только один из авторов сборника «Смена вех» С.С. Чахотин оказался человеком более менее смышлёным и приехал в СССР уже после смерти Сталина, в 1958 году. А потому остался в живых, правда, из советской страны он стал невыездным.
Жестокая реальность и идеализация политики большевиков
«Псевдопатриотические» интеллигентские порывы Устрялова разбились о жестокую реальность марксистской борьбы с инакомыслием и инакопроисхождением.
По какой-то странной психологической подслеповатости ему всё чудилось, что «советский строй в силу необходимости становится всё терпимее к элементам, чуждым к патентованному пролетариату марксистского катехизиса. Он вступает в компромисс с собственническим крестьянством, с мелкой буржуазией, с международным капитализмом, даже с «мировым меньшевизмом» (Смысл встречи (Небольшевистская интеллигенция и советская власть), 1922). На самом деле, от крайностей программы вовсе не отказались и альтернативы, даже и «примирившихся» с большевиками, терпели только из тактических соображений.
Взгляд на революцию
Собственно примиренческое сменовеховство родилось из защиты революции, которым занялся Устрялов. Его догматическим убеждением была мысль о происхождении революции из недр национальной жизни (См. Потерянная и возвращенная Россия, 1922). В реальности никакая революция не является стихийной. Её всегда готовят организованные силы заговора, не имеющие к широким слоям населения никакого отношения. А сама революционная пропаганда всегда обращается не к нации, а к народным низам. И народной большевицкая революция была, в смысле «пролетарской», только для асоциальной движущей части столичных низов.
Устрялов даёт очень странный образ России, как «русской бочки», с которой неизбежная революция сорвала «вековые обручи» (власть самодержавия) и содержимое которой оказалось «достаточно горьким» (Ignis sanat, 1922). Для Устрялова большевицкая власть — это просто новые обручи для русской бочки (государства).
Хотя в вопросе восприятия революции Устряловым разобраться не так просто. Он очень многословен, стилистически высокопарен и не старается высказаться предельно чётко. Для него февральская революция — это лишь симптом («жар») внутренней болезни. И революция есть лишь пламя, выжигавшее «зло». Он хотел бы эволюции вместо революции. Но эволюции явно в кадетском понимании, в сторону уничтожения Самодержавия, которое для него — абсолютное зло.
При всём своём напускном национал-большевизме, на самом деле, Устрялов всё же глубинно остался национал-демократом, «патриотическим» либералов. Он сам писал: «Я охотно называю себя «национальным демократом» в том смысле, что, констатируя смерть исторических форм абсолютизма, признаю необходимость национального политического самоопределения через специальные государственные органы представительного характера». Этот национал-демократизм у Устрялова просто имеет ещё некий тактический уклон: «Советская система, как принцип, с такой точки зрения может в значительной мере удовлетворять притязаниям национального демократизма. Этого мы непростительно не учитывали, когда пребывали в белом лагере…» (О «будущей России» (К вопросу о «самоопределении» сменовеховцев), 1922).
В принципе, с этим можно даже согласиться. В том смысле, что между либеральным парламентаризмом многих партий и советами одной большевицкой партии принципиальной разницы нет. И то, и другое республика. И то, и другое демократия. Только в одном случае олигархов, стоящих за партиями несколько, а в другом, олигарх один — победившая партия большевиков. Другой вопрос, что здесь можно найти национального? По-моему, практически ничего. И либеральный парламентаризм, и партийная диктатура одинаково западнические конструкты.
Устрялов гипертрофированно поверил в революцию как в неизбежную стихию, которой решаются социальные проблемы. Февралистский вариант революции не смог победить и он восхитился следующим октябристским вариантом, надеясь на его будущую трансформацию.
Из раза в раз Устрялов пишет, что ураган «мало-помалу затихает» (Годовщина, 1922), но реальные большевики всё не унимались со своими экспериментами. И Устрялов хорошо понимал, что работая на советской КВЖД в очень комфортных материальных условиях, «должен возить воду на большевистскую мельницу».
И он делал это весьма усердно… Писателю приходилось воспевать то Ленина, то Троцкого, то Бухарина, то Сталина, силясь найти в них крупицы чаемой «национализации» революции.
Превознося Ленина как национального «евразийского» героя, одновременно он, понимая, что тот «был по ту сторону добра и зла». (Памяти В.И. Ленина), но публично призывал день октябрьской революции считать своим праздником, параллельно указывая на оскорбительную ясность и всестороннюю необременительность для серого вещества «Азбука коммунизма» (Обмирщение, 1922).
Скорее всего, в Устрялове сочеталось личное приспособленчество, жгучее желание участвовать «в жизни», стремление к славе и странная уверенность в том, что от коммунистической идеологии после военного коммунизма первых лет осталась лишь коммунистическая терминология. Этой соблазнительно обманчивой установке способствовал и своеобразный устряловский макиавеллизм, отвергающий всякую нравственность в политике, как «нудную канитель». В реальности приписываемая коммунистам эволюция была вовсе не эволюцией самой партии, а восстановительными процессами самой русской почвы, на которой после революционного пожара было уничтожено почти всё живое. Напротив, стойкое желание партии продолжать уничтожать всё живое на вновь оживавшей почве, говорит о настоящей внутренней сути коммунистического государства, противоположного естественным социальным законам. Социальная жизнь, национальная почва просто сама по себе была сильнее партии, а вовсе не партия каким-то образом эволюционировала в национальную сторону.
Совершенно безрезультатно Устрялов призывал большевиков опираться на крестьянское большинство: «Мужик становится единственным и действительным хозяином русской земли. Всякая власть отныне принуждена будет считаться с ним, фактически творить его волю» (Основной «базис», 1923).
Ничего подобного большевики не собирались делать. Жесточайшая эксплуатация русского крестьянства продолжалась и во имя индустриализации, со старым классовым рвением.
Совершенно непонятно, где Устрялов нашёл в «пролетарской» партии желание творить волю мужика? Абсолютная глупость восхищённого масштабами большевистского погрома интеллигента-мечтателя.
К несчастью для него, ему искренне казалось, что своими статьями он участвует в жизни советской страны. Что коммунистические идеологи его читают и спорят с ним вполне серьёзно, а не как с «ересью» очередного попутчика. Вероятно, молодой Устрялов получал от этого интеллектуальное удовольствие. Он читает и комментирует очередные съезды большевиков. Считая, что границы добра и зла склонны к расплывчатости, он искал в выступлении большевицких вождей какие-то крупицы здравого смысла.
На 12 съезде ему понравился Красин, но Красина большевики достаточно быстро съели, гоняя по зарубежным полпредствам. В партии победило марксистское доктринёрство, и за Сталиным пошли самые тупые партийные массы, требовавшие углубления революции, т.е. новых благ для её активных участников. Устрялов упрямо не хочет замечать принципиальность интернациональной политики большевиков, обходит вниманием их борьбу с «великодержавным русским шовинизмом».
Не обращая внимание на происходящую реальность, он продолжает бездумно верить в некое «выздоровление» советов. Конечно, в уничтожении революцией, в том числе и «оппозиционной интеллигенции», сложно не увидеть чего-то вполне естественного. Но «радуясь», что «исчез, испарился «враждебный государству дух», трудно не заметить, что испарилась и сама Империя с императорской властью. А вместо неё стала править русофобская партия.
«Перерождение страны, — упрямо писал Устрялов, — вступает в более спокойную, длительную фазу» (О нашей идеологии, 1923). «Более спокойную фазу» — это написано про 1923 год, после которого будут и массовый голод, и коллективизация, и церковные гонения, и 37-38 годы…
Устрялов не понимал и реально недооценивал доктринёрской сущности коммунистической партии, сутью которой оставался интернационалисткий марксизм, а не какой-то национальный вариант идеологии.
«Революционная доктрина побаивается «шовинизма господствующей нации» и склонна иногда препятствовать ее культурно-историческому «самоопределению», принося его в жертву даже «выдуманным» культурно-национальным призракам. Это — понятные крайности эпохи. Они преходящи, хотя и опасны. Но суть ее — не в них». (Национализация Октября. (К восьмой годовщине), 1925).
А в чём же тогда суть? Устрялов утверждал, что русский народ «нашёл себя» в революции?! Всякий раз, когда он пытался объяснить, что же это такое, то пускался в ничего не проясняющие сиропные воздыхания о будущих плодах революции…
Возможно, не последнюю очередь в таких «прекраснодушных мечтаниях» играло весьма туманное представление Устрялова о реалиях Советского Союза. Так, в письме к своей маме от 7-8 декабря 1929 года он пишет, что думал о том, чтобы пожить в Оптиной пустыни… Между тем монастырь был закрыт ещё в 1918 году, монахи разогнаны и подвергались разнообразным репрессиям. В реальности мечтать всё-таки весьма вредно… Социальная действительность за время мечтаний часто изменяется вокруг до неузнаваемости и пожить в ней становится уже невозможно…
В своих мечтах Устрялов настолько погрузился в дела партии, что зачастую рассуждал о большевиках как о религиозной группе: «Без веры невозможно угодить Революции. Вера движет горами. Где безверие, там и отступничество, помрачение ума и сердца, плач и скрежет зубовный. Революция — это вера прежде всего. Вера «в социалистические пути нашего развития». (14-й Съезд, 1926).
О партийных съездах рассуждал как о Соборах, которые не могут ошибаться. О том, что «нет истины кроме Партии, и Ленин — пророк её».
Погрузившись в партийную жизнь, он переживал за её единство, коря внутрипартийную оппозицию: «Путь революций и потрясений — всегда наименее экономный, наиболее болезненный путь. Нам слишком дорого обошелся распад одной власти, чтобы следовало добиваться крушения другой, с таким трудом и муками создавшийся… Предпочтительнее беречь наличную власть, нежели искать новую». (Кризис ВКП, 1926).
Самое потрясающее в этом совете, данном большевицкой партии, то, что сам Устрялов в отношении Самодержавной власти ему не следовал. «Наличную власть», Царскую, сам не считал нужным беречь, а напротив, искал в революции новую.
В развернувшейся внутрипартийной борьбе Устрялов выступал «не только «против Зиновьева», но и определенно «за Сталина». Но при этом бездумно продолжал взывать к повороту политики партии к «неонэпу»…
Фашизм, национал-социализм и большевицкий коммунизм
Устрялов уделял большое внимание итальянскому фашизму и германскому национал-социализму, чувствуя их родственность большевизму. Каждому из этих движений он посвятил отдельное сочинение.
Во всех трех разновидностях идеократии он находил «нетерпимость и жестокость идеократий», в которых совершалась «генеральная смена элит путем генерального восстания масс, смена больших культурно-социальных систем через цикл великих потрясений» (германский национал-социализм, 1933).
«В тяжких спазмах наличной социальной системы, — писал Устрялов, — появились на свет все три… диктатуры в Европе. Мировая война родила русскую революцию и советское государство. Версальский мир дал жизнь итальянскому фашизму. И нынешний мировой кризис оказался законным отцом германского национал-социализма. Народные революции окрыляются бедствиями и увенчиваются диктатурами».
Во всех трех движениях Устрялов слышал некий «исторический ветер» и «дух музыки», в них звучащей. Ему нравился в них «жизненный порыв», «прибой нового жизнечувствия, глухой гул становящегося мира». (Германский национал-социализм, 1933).
***
К несчастью, подобные Устрялову мечтатели продолжают и сегодня «слышать» некий революционный ветер, продолжают ждать нового «прибоя» и стараются приблизить адский «гул» очередного «нового мира». Хотя сегодня о «перерождении» большевизма при Сталине и о «переваривании» русскими коммунизма нам рассказывают уже вовсе не изобретатели этих идеологем. Эта тема идейно была исчерпана ещё в поколение Бердяева, левых евразийцев и различных фракций сменовеховцев. Весь этот идейный балаган оправдания революции, большевизма, преемственности Орды с Московским Царством, а Российской Империи с СССР разработан ещё при жизни Ленина и Сталина. Сегодня мы видим только блёклое эпигонство, неумело пытающееся приладить этот мыслительный блуд к современным ожиданиям «левого поворота».